«Сергей Лебедев пишет не о прошлом, а о дне сегодняшнем. Он пишет о том, что мы до сих пор не пережили, не осмыслили эпоху Сталина… Герои Лебедева ищут путь, способ разорвать эту пуповину…». Так пишет лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в аннотации к пятому роману Сергея Лебедева «Дебютант», который вышел в последних числах ноября.

Главный герой книги, химик Калитин работал в секретном советском институте, где изобрел смертельное отравляющее вещество «Дебютант». После распада Советского Союза Калитин бежит на Запад, но очень быстро понимает, что за ним идет охота — предателей их бывшие хозяева не прощают. Роман Сергея Лебедева на суперпопулярную нынче тему о смертельных ядах , изобретаемых в советских секретных лабораториях, прежде чем выйти в России , был издан в нескольких западных странах, скоро выходит в Англии, США, Германии. Но «Дебютант» (в отличии от «Лаборатории ядов» Аркадия Ваксберга и книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль.Соотечественники, агенты и враги режима») — не нон-фикшн, это настоящая проза.
И хорошо написанная. Когда роман вышел в России, Сергей Лебедев написал у себя в фейсбуке: «Это книга о том, что сделала с армией, страной и всеми нами карательная война в Чечне.
О долгой и скрытой генеалогии зла, об истории разработки советских ядов, восходящей к совместному проекту Рейхсвера и Красной армии в Шиханах.
Об ответственности ученых, о темном альянсе тоталитарного государства и науки, рождающем современных монстров.
О непрерванной преемственности советских и постсоветских спецслужб.
О конформизме и сопротивлении.
Я задумал «Дебютант», когда в марте 2018 года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Были поездки, исследования, работа в архивах.
Он выходит на русском, когда в Германии восстанавливается после покушения Алексей Навальный.
Я не ждал такого совпадения; но, выходит, угадал не просто с темой, – с самым нервом времени. «Лучший яд — это страх», говорит один из героев».

В «Дебютанте» два главный героя — химик Калитин и подполковник Шершнев. Оба они убийцы, но не хладнокровные, а рефлексирующие. Сергей Лебедев препарирует их, пытаясь проникнуть к ним в души , понять, что ими движет , как они живут после своих убийств. В интервью «Немецкой волне» писатель объясняет, почему выбрал своими героями исполнителей убийств. Для Лебедева, говорит он, «это некоторая дань семейной истории».
«Первая книга, с которой я начинал — роман «Предел забвения», — именно про исполнителя, моего неродного деда, второго мужа моей бабушки, о прошлом которого в семье не говорили. А потом выяснилось, что он был начальником лагеря в Гулаге. Но я пытаюсь понять, откуда такие люди берутся в наше время. Мне была интересна рутина насилия, тот момент, когда насилие растворяется в документах, процедурах, протоколах и уже не воспринимается как что-то ненормальное», — рассказал писатель.
Лебедеву интересна рутина насилия. И об этой самой рутине, которая приводит героев к гибели, он пишет и в «Дебютанте». Но это , конечно, не только книга с закрученным сюжетом и интригой, но и политический роман. Именно потому, что вся наша сегодняшняя политика — это смесь «Гулага со смертельным ядом».

Глава из книги «Дебютант» Сергея Лебедева публикуется с любезного разрешения издательства Corpus.
Глава 16
Обычно, если сон не шел, Калитин повторял наизусть формулы тех веществ, что провалились на испытаниях. Их никогда больше не синтезировали. Они исчезли из мира, сохранились только записях лаборатории. Их имена вели в пустоту, небытие.
Но теперь словно наступил час долгого отлива сновидений. Казалось, лукавый бог Гипнос оставил его дом, и встал у дверей его неусыпный брат Танатос, не любящий даров.
Калитин чувствовал, что остался один пред лицом смерти и памяти. Он вспомнил почти все, что любил вспоминать, и многое из того, что надеялся забыть. И он уже хотел бы остановиться, уснуть. Но память — нежеланная, отвергнутая — будто пришла взыскать пеню за долгое заточение.
Калитин встал с постели, раздул угли, подбросил щепок. Вчера небо над кромкой хребта на востоке уже начало бы светлеть. Но сегодня из‑за гор пришли обложные тучи с дождем, скрыли рассвет.
Нужны хотя бы несколько часов сна. А потом он уедет. Его же пригласили в следственную группу? Пригласили. Вот он и отправится. Решение — куда — пришло само собой. На берег Персидского залива.
В страну, где правят армия и разведка, — поэтому там по‑настоящему оценят и Дебютанта, и его разработчика.
Калитин не стал искать в интернете адрес посольства. Он когда‑то случайно проходил мимо, смутно помнил здание, узнаваемо-безликое. Интересно, под наблюдением ли оно? Наверное. Постоянный пост в какой‑нибудь квартире напротив. Камеры с функцией распознавания лиц. Ну что ж, главное — передать послание. Дальше посольские найдут его сами. Купить вторую симку в уличном магазинчике… Все вещи, конечно, придется бросить. Как тогда. Там, в новой жизни, будет все новое.
А прежние — только он и Дебютант.
Дебютант. Когда Калитин наконец получит полноценную лабораторию, его можно будет переместить из боевого контейнера в стационарную емкость. Изучить — как он перенес время? Ведь оно — самый главный враг всех препаратов его класса, гиперактивных, но не слишком стойких. Так что это еще вопрос — а Дебютант ли по‑прежнему в контейнере? Или уже Мистер Пшик, газировочка, от которой вреда не больше, чем от детского мыла? От этой последней мысли Калитину стало больно. Он не мог даже в воображении допустить гибель Дебютанта. Вещества. Существа. Близкого существа.
Вера хотела ребенка. Сына. Хотя догадывалась, конечно, что у него может быть только одно дитя: то, что рождается в пробирке. Он сам чувствовал про себя, что ему не даны дети. Видел в этом своего рода благословение ученого. А Вера…
Сколько раз Калитин упрекал себя за брак, собирался разводиться… Но он слишком хорошо знал, зачем женился. Затем же, зачем вступил в партию, ходил на демонстрации и субботники.
Остров защищал, но был требователен к лояльности. А за его пределами начинался террариум науки, где, словно в диковинном саду времен, жили хищные чудовища разных эпох.
Старцы. Пособники кровавых разгромов научных школ. Соучастники убийств, совершавшихся с помощью критических статей. Знатоки смертельной полемики на отравленном марксизмом ученом арго, соперники в схватках за внимание корифея всех наук. Создатели порожденных догмами идеологии лживых доктрин, поражавших, как чума, целые отрасли знания.
Калитин встречал их в институтских, в министерских коридорах — влиятельную серую нежить, длящую свой век благодаря былым привилегиям, лекарствам, лечебницам, минеральным водам, массажам, протезированию. Они все еще были смертельно опасны, могли сожрать — хоть и не заживо, как раньше, — если новая теория опровергла их дубовую работу сорокалетней давности, за которую были получены премия, орден и звание академика.
Молодежь. Ловкие партийные деятели, сами никогда не писавшие своих диссертаций, отпрыски владетельных семейств, пристроенные в науку. Эти, лощеные, были не менее кровожадными, чем старики, хотя не имели уже клыков и когтей: порода измельчала. Зато они умели распустить слухи, провернуть интригу, перехватить тему, увести идею, напроситься в соавторы, перекрыть финансирование.
На самом Острове, вблизи Захарьевского, Калитин был почти неуязвим. Но на Острове вещества лишь рождались. Их нужно было продвигать, выводить в мир, пусть и такой же засекреченный, и там‑то Калитина — а значит, и их — подстерегали опасности.
Калитин знал сильные и слабые стороны своей анкеты, своей проверенной-перепроверенной биографии. И когда Захарьевский дружески посоветовал ему завести семью, это поможет протолкнуть его кандидатуру в партийных инстанциях, Калитин уже знал, кого выберет.
Вера. Забытое имя.
Когда‑то они смотрели вместе с Верой передачу “В мире животных”. Показывали мальков игуан на пляже: тысячи родятся, многие сотни погибнут, десятки доберутся до воды, три-четыре выживут, один достигнет возраста половой зрелости.
Как раз в это время Калитин начал всерьез обдумывать идею Дебютанта. И ему показалось, что он видит отражение своих мыслей: тысячи дебютантов, безымянных номерных веществ, родившиеся в пробирках; большинство окажется пустышками, десятки — покажут кое‑какие способности, но будут иметь превосходящие их изъяны; и лишь два-три получат прописные индексы, первичные имена; между ними и будет настоящая свара за жизнь, за овеществление, за место в реестрах и производственных программах.
Дебютантом с прописной буквы станет только одно.
Тогда он остро почувствовал свое одиночество, бесполезное бремя их брака: разве Вера способна разделить такое? Понять, что он, Калитин, тоже дебютант, один из нескольких, превыше всего жаждущий осуществления?
Вера. Как хорошо, что ее имя совпадает со словом, с понятием. И можно произносить это слово без значения имени.
А оказалось, что в их браке все‑таки был смысл. Она спасла его. И подарила открытие.
Это он был обязан проводить тот опыт с Дебютантом нулевого поколения, с первым, экспериментальным составом. Предтечей. Но он был заранее недоволен, ему чудилось, что в расчеты вкралась ошибка, смесь окажется недостаточно действенной.
Вызвалась Вера. Квалификация позволяла. Трещина в клапане. Приемка проморгала. Клапан взорвался, кусочек металла пробил и пластиковый бокс, и сверхнадежный костюм защиты. Экстренная вытяжка сработала штатно, внутрь костюма попало ничтожное количество вещества. Можно сказать, считаные молекулы. Но это был Дебютант, истинный Дебютант. Калитин безошибочно угадал базовую композицию.
Дебютант убил Веру мгновенно. Это было первое, что он сделал, явившись на свет. Взял плату за рождение. Дебютант был таким, каким Калитин мечтал его видеть. Не просто веществом. Именно этим, а не смертью жены, Калитин и был оглушен. Он не мог признаться себе, что испугался. Испугался не как химик, чей препарат оказался адски эффективным. А как творец, чье творение, задуманное как верный слуга или преданный воин, ожило сверх меры, вышло из повиновения, оказалось неподвластно создателю.
Дебютант был слишком свиреп. Его следовало бы утилизировать, списать в брак; так уничтожают бесноватых собак бойцовских пород, не поддающихся дрессировке.
Но Калитин не мог уже от него отказаться. Он вложил в него все, знал наперед, что второго озарения не будет.
Дебютант был настолько засекречен, что тело Веры нельзя было отвезти в морг больницы. Дебютант коснулся ее — и она стала сосудом, вместилищем тайны.
Вскрытие же показало, что следов вещества нет. Гипотеза Калитина подтвердилась. Дебютант был неуловим.
Ему выражали соболезнования, дали отпуск, хотели отправить в санаторий на юг. Он сказал, что хочет вернуться к работе. Так ему будет легче. Ради Веры.
Ему разрешили.
И он начал попытки приручить свое создание, решить проблемы сохранности, стойкости — без этого нельзя было надеяться на сертификацию, на запуск в производство.
Но Дебютант оказался чрезмерно чутким, норовистым. Стоило хоть на йоту изменить тот первичный состав, как мгновенно разбалансировалась вся композиция. Дебютант словно был рожден только таким, как есть, ограничен для применения именно своей дикостью, своей мгновенной страстью к убийству.
Калитин годами, годами добивался мельчайших улучшений; был близок к вымученному, выпрошенному у судьбы успеху. Но распалась страна, рухнул Остров, и Дебютант так и не родился официально, остался как бы несуществующим, неучтенным, будто был обречен из‑за названия быть вечным начинающим.
Дебютант.
Название когда‑то давно предложил сам Калитин. Ему надоели ничего не говорящие шифры вроде “Радиант”, “Фолиант”, “Квадрант”. Казалось, они крадут у препарата что‑то, что появляется у вещи с удачно выбранным именем, у пса или кота с верной кличкой, — вкладыш души, рисунок судьбы.
По идиотской инструкции шифр вещества дол-жен был заканчиваться на АНТ.
Он перебрал десятки слов — не то.
Однажды Калитин пошел гулять на край полигона. Там был поросший дудником овраг, бил из осклизлой каменной стенки родник. На краю оврага попадались вросшие в землю, перевернутые, разбитые надгробия заброшенного кладбища; деревянные деревенские дома давно сгинули, а известняковые плиты торчали среди примятой по весне прошлогодней травы. Там, у оврага, Калитин и придумал ловкое, элегантное, живое: Дебютант, будто кто‑то на язык положил.
Еще не было самого вещества, не было формулы, даже пути к ней — только дерзкий замысел.
Он пришел в лабораторию Захарьевского, не зная, что будет разрабатывать именно боевые вещества. Заранее дал подписку о неразглашении, хотя не мог пока ничего разгласить.
Что говорить, в институте были и другие темы. Он узнал о них только задним числом, уже получив от Захарьевского первое самостоятельное задание.
Но Калитин ни о чем не жалел. Онтология смерти, с которой он столкнулся как исследователь, поставила научные вопросы невероятного масштаба и глубины.
Сейчас он мог признаться себе, что никогда не был, в строгом смысле слова, атеистом. Но не был и верующим. Он знал, что в мире существует некая высшая сила. Но знал это как практик, испытавший озарения, не объяснимые рационально. Изыскатель, рудокоп, полагающийся на эти озарения, умеющий находить интуитивный путь к ним.
Он не приписывал их ни Богу, ни дьяволу, а полагал присущими натуре человека или свойствам знания. Скорее в своей скрытой подлинности он ощущал себя архаическим существом, шаманом, путешествующим по потусторонним мирам в поисках источников, артефактов силы. Не случайно же он коллекционировал — на полигоне много копали, то были места древних стоянок вдоль реки, и земля всегда дарила что‑то, — первичные символы сакрального, неуклюжие фигурки палеолита, а еще — кремневые рубила, топоры и наконечники стрел.
Калитин верил, что он творец в ряду других творцов, поскольку он не черпает из некоего черного колодца, не вдохновляется кровью и мучениями. Над Островом часто кружили огромные орлы. Калитин любил этих птиц, любил ветра, безудержные закаты, дикий простор. Именно в них он обретал озарение, вдохновение, чувство значительности собственной жизни. И этот факт служил для него доказательством, что он такой же, как остальные таланты; любые разделения лицемерны. Тот, кто осудил бы его, просто не знал бы, что у него в крови плывут тот же ветер, те же закаты, что у любого другого одаренного человека; и Дебютант — такое же произведение наития, риска и искусства, как Ника Самофракийская, как таблица Менделеева.
Калитин хорошо помнил, мог пережить наново самую первую вспышку понимания, путеводный метеор.
Он работал тогда по указанию Захарьевского с растительными веществами, стойкими, мгновенно действующими, но оставляющими столь же стойкий, не распадающийся след. И он пробовал снизить его заметность, размыть, распылить, превратить хотя бы в прозрачный шлейф.
Но упорное вещество не поддавалось, и Калитин, ожесточившись, швырнул на пол карандаш, уперся взглядом в потолок лаборатории, купол бывшего храма, увешанный коробами вентиляции. От старой росписи остался только один, обрезанный по грудь, ангел в углу. В другом месте его бы закрасили, но сюда партийному комитету не было ходу.
Калитину нравилось смотреть на задумчивое лицо в золотом венчике, на золотую узкую трубу, прижатую к ангельским губам. Он был в его власти, этот призрак иной эпохи, глашатай несостоявшегося суда, надолго переживший тот дореволюционный мир, в котором он как изображение имел смысл, прямую власть значения.
При взгляде на этого ангела, обладающего особым упрямством последнего осколка, не желающего исчезать, неподкупно свидетельствующего о целом, Калитин и осознал, что смерть по самой своей природе — грязное дело, и это не метафора. Смерть всегда оставляет улики, многообразнейшие естественные следы, по которым пойдет умный следователь. Так устроен мир, его законы.
Обойти, обмануть эти законы, сделать так, чтобы смерть приходила незримо, проникала за любые покровы, не оставляя следа, — это высшая власть, возможность напрямую повелевать бытием.
В тот миг Калитин — он все‑таки еще был молод — заколебался.
Ведь он понял и то, что зримость смерти, ее вечный рок, приговоренность оставлять следы, быть узнанной, — и есть натуральное добро, красная сигнальная нить, вшитая, вплетенная в устройство мира. Так закодирован, реализован в материи изначальный закон воздаяния. А значит, сама возможность его исполнения. Возможность существования понятий преступления, вины, возмездия, искупления, покаяния. Нравственности как таковой.
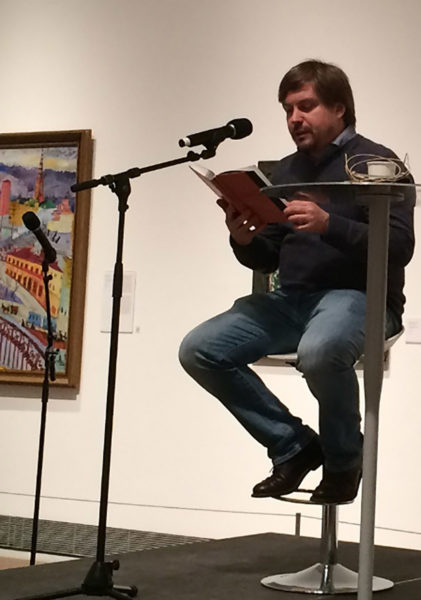
Калитин заколебался, но не испугался. Чувство-вал, что прикоснулся к некой грани, — осязание было внятным, реальным. И он хотел заступить за нее.
А когда Калитин создал Дебютанта, то понял, что обойти предохранительный механизм нельзя. Закон сложнее, чем он думал.
Дебютант был слаб именно из‑за своей мощи. Он был бесследным и убийственным, но слишком нестабильным собственно как химикат; абсолют двух качеств в ущерб всем другим. Слишком смертельным и потому нежизнеспособным, как химера. Дебютант не был способен на направленное действие; не оставлял следов, но был зависим от оболочки. У экспертов сразу же возникли вопросы по тактике применения: как использовать вещество, которое убьет и убийцу, и объект покушения? Поэтому возникла хромая схема, обусловленная необходимостью оставить объект наедине с Дебютантом, а потом изъять сработавший сосуд, контейнер; именно так убили банкира. Схема работала, но Дебютант лишался своего главного преимущества — скрытности.
Но тогда, в начале пути, Калитин был преисполнен надежд.
Он стал фанатиком смерти. Изучал, как люди умирают, как это происходит химически и физиологически. Слушал лекции приглашенных специалистов, врачей, которые думали, что доверяют знания разработчику секретного лекарства для Центрального Комитета. В морге Города перенимал науку судебно-медицинских экспертов. Постигал истории эпидемий, исследовал смерть всего живого: растений, грибов, насекомых, планктона, экосистем.
Первый, простейший путь опытов, который он избрал, вел к созданию вещества-двойника.
Ему давно казалось, что у всех препаратов с их разными боевыми темпераментами, сроками действия, уязвимыми местами и сильными сторонами, есть близнецы в человеческом мире. Среди людей можно назваться другим, случайным, непричастным — так и Калитин создавал темных двойников для веществ гражданского назначения, добивался идентичного следа, который никто не интерпретирует как свидетельство убийства.
Но все‑таки это было половинчатое, несовершенное решение. Сам по себе след продолжал существовать и при неудачном стечении обстоятельств мог вызвать подозрения.
Однажды Калитин пошел на ночную рыбалку с начальником отдела режима, старым знакомым Захарьевского. Переведенный в действующий резерв генерал на свой грубоватый лад уважал и опекал Калитина. Однако нужно было потакать иногда его мужицким привычкам, например, ходить с ним ночью на сазана. К тому же режимник вызывал интерес Калитина. Необразованный, безнадежно отставший от века, он был ископаемое, окаменелость из прошлой эпохи, от грехов, грязи и крови которой Калитин хотел дистанцироваться. Там царила простая и бессмысленная смерть с наганом, забиравшая без разбору миллионы душ. Калитин создавал иную смерть — разумную, прицельную; ее моральность, оправданность были в ее единичности. Но тем генерал и волновал Калитина, что от него пахло дикой кровью; и на его фоне становились ясны, рельефны внутренние принципы самого Калитина. Однако в их работе было глубокое и неочевидное сходство, которое словно предопределяло и благословляло их альянс, ученого и офицера госбезопасности. Режимник был сугубый профессионал, чьей этикой была целесообразность; он умел вскрывать людей, идти кратчайшим путем к правде. Так же поступал в науке и сам Калитин.
Они рыбачили при свете керосинового фонаря, бросавшего долгие тени на песок. Поклевок не было. Режимник посасывал свою смердящую “беломорину”, долго, бездумно смотрел на колокольчик донки, прихлебывал из фляжки спиртовую настойку чаги, настоящий скипидар, — Калитин как‑то попробовал, чуть горло не сжег. На Остров в то время привезли троих новичков, недавних выпускников спецфакультета, каким когда‑то был он сам. Калитин искал случая неформально спросить про одного из них, которого намеревался взять к себе в лаборанты.
— Не советую, — дружественно отозвался старик, мгновенно поняв, в чем интерес Калитина. — Дурак. Болтает много. Доболтается. Допуска лишим.
— О чем болтает? — спросил Калитин нейтрально.
— О призраках, — помедлив, ответил старик. — Об этих, черт его, привидениях. Будто видел что‑то в подвале.
— Так это чушь, — искренне воскликнул Калитин.
— Чушь, да не чушь, — назидательно ответил старик. — Место у нас особенное. С историей. Мероприятия, так сказать, проводились в старое время. И болтать в эту сторону не нужно.
Калитин почувствовал, что в старике говорит что‑то личное, давнее. Он знал некоторые подробности его биографии — Захарьевский посвятил, объясняя, как держаться с генералом.
Калитин не раз думал, представляя старика: почему в те годы они не могли просто собрать людей, расстрелять и закопать? Зачем вели следствие, писали бумаги, соблюдали формальности, если знали, что все это ложь? Зачем все эти процедуры? И понял теперь, глядя на старика: ради исполнителей. Это им перила, чтобы не сойти с ума и не выйти из повиновения.
А старик замолчал. Калитин чуял, как затронула, возмутила того тема призраков, идея, что смерть об-ратима, что свидетели могут восстать из небытия. Cам он не верил ни в каких духов. Но ему было приятно наблюдать суеверные, детские страхи всесильного начальника отдела режима.
Колокольчик зазвенел. Где‑то в глубине сазан схватил и повел в сторону наживку. Старик подсек, потянул леску, выругался разочарованно:
— Сошел, паскуда.
Вдруг в куполе света от их фонаря замельтешили, зарябили белые хлопья, будто снежный заряд налетел. Ветер принес с просторов реки августовских поденок, странствующих созданий ночи, которые не доживут до рассвета.
Поденки облепили раскаленное стекло, рвались к фитилю, обугливались. Лампа была похожа на волшебный сосуд, созывающий их из тьмы.
Поденки усыпали песок, линию прибоя, будто сбитые соцветия. И Калитин испытал пронзительный восторг. Он точно знал теперь, каким должен быть его Дебютант: краткоживущим, теряющимся в тенях мира, способным, прежде чем развоплотиться, на исполнение всего одного желания: смерти.
Поденки. Славные поденки. Рыжий свет керосинового огня. Белая живая пурга на исходе лета, танец ухода. Провозвестие вьюг, что придут позже. Выморок зимнего белого сна.
…Калитин уснул, чувствуя под сомкнутыми веками трепет легкокрылых теней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

