В издательстве «Лимбус Пресс. Издательство К. Тублина» вышел новый роман Антона Секисова «Бог тревоги». Молодой литератор, писатель-невротик переезжает из Москвы в Питер в надежде, что ему удастся написать книгу, о которой будут шуметь критики, читатели выстроятся в очередь за автографами, и писатель станет лауреатом всех литературных премий.
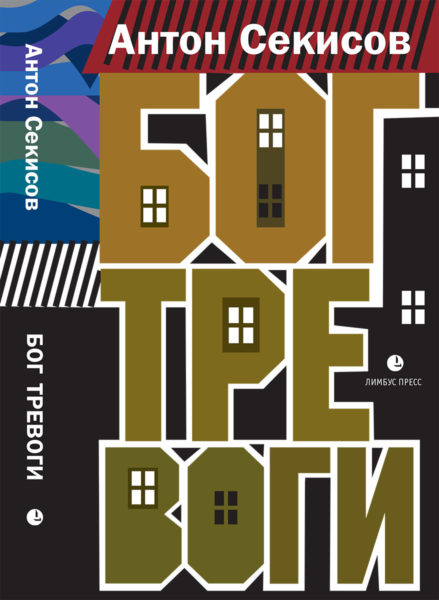
Вместе с с другом он снимает квартиру и проводит время в различных злачных заведениях в интеллектуальных спорах с модными писателями и поэтами. Но в Питере ему не пишется, так же как и в Москве. Писатель Антон (героя зовут так же, как и самого Секисова ) заводит роман с женщиной-стоматологом, матерью двоих детей, случайно натыкается в Википедии на сообщение о собственной смерти, а потом находит в интернете фотографию своей могилы. С этой минуты он начинает путешествовать не только по питейным заведениям Петербурга, но и по кладбищам. Разыскивая свою могилу, Антон ездит туда, как на работу, попутно проводя познавательные для читателя экскурсии по питерским некрополям.
Роман «Бог тревоги» можно было бы посчитать автобиографией. Но не получается — Антон Секисов совсем не похож на гоголевского Акакия Акакиевича, а именно с ним — хрестоматийным неудачником, никому ненужным и никем нелюбимым, — сравнивают героя книги авторы аннотации. В отличии от персонажа своего романа, Секисов, хоть и переехал в Питер из Москвы, роман свой написал и книга у него получилась. Уже с самого начала «Бог тревоги» подкупает иронией, остроумными, а иногда даже сатирическими портретами персонажей.
Причем по мере развития действия ирония начинает прирастать детективным сюжетом, и читатель нетерпеливо ждет, что же произойдет с Антоном дальше. Кажется, что он обязательно совершит что-то непоправимое; чувствуется, что он на взводе, у него все валится из рук — ничего не получается, книга не пишется, Антону кажется, что он смертельно болен. А тут еще эта фотография могилы, которая сводит его с ума.
Петербург — город Достоевского и Гоголя — накладывает отпечаток и на настроения героя: надежда на успех и победу над своими неудачами сменяется у него депрессией и даже попытками вернуться в Москву. Писателя Антона одолевает его фанат и поклонник, этакий двойник из произведений Федора Михайловича. Антон его убивает, стремясь избавиться таким образом от безнадеги, в которую угодил. Действительно ли этот современный «Акакий Акакиевич» способен на преступление — или ему это только кажется?

Герой «Бога тревоги» мне симпатичен. И, как читателю, мне хочется думать, что всего этого не было — ни могилы, ни убийства. И надеяться, что автору повезет, однажды он проснется в своей съемной питерской квартире, сядет за письменный стол и напишет ту самую книгу, ради которой переехал из Москвы в Санкт-Петербург. У романа открытый финал, дающий волю читательским фантазиям и интерпретациям.
С разрешения издательства мы публикуем отрывок из книги «Бог тревоги» , в которой автор возвращается с вечера популярного прозаика Александра Цыпкина и встречает своего поклонника-двойника.
26
Арабский шейх Снегирев выступал не один, а в компании писателя Александра Цыпкина. Оказалось, что они выступают в театре «На Литейном», который еще за пятнадцать минут до начала был до отказа забит. Я с трудом протиснулся на свое место, которое, к моему неудовольствию, оказалось с краю и не в первых рядах. По-видимому, места в центре и ближе к сцене были не для второсортных друзей. В этом неудовольствии, конечно, была доля лицемерия, которая едва ли укрылась от внимательного читателя. Достаточно вспомнить тот эпизод с крымскими лилипутами, к которому я обращался по ходу повествования несколько раз. В первые ряды я не рвусь, а сидеть с краю довольно удобно – можно в случае чего легко улизнуть, и все же было немного обидно, что мне досталось такое место.
Под потолком горела гигантская люстра, и казалось, что от нее исходит тяжелый печной жар. Тяжелый жар исходил и изнутри, и снова начался кожный зуд, теперь уже не только в руках, но по всему телу. Я как будто лежал в ванне зловонной петербургской воды. Терпеть это было нельзя, и я, превозмогая стыд, стал потихоньку почесываться. Этот маневр заметила моя соседка, женщина в красном чешуйчатом платье. Она поглядывала на меня с брезгливостью, похоже, редко сходившей с ее лица. Вообще, зал главным образом заполняли молодые женщины, которых нельзя было отнести к типу библиотечных дам или филологических дев с подушкообразными лицами и волосами, сплетенными в гнездо крупной птицы. Это были женщины для победителей, к классу которых писатели никак не могут принадлежать.
И все-таки это был литературный вечер, и значит, эти многие сотни женщин на время покинули круглосуточные солярии, чтобы услышать, как двое немолодых мужчин читают свои рассказы. И главным образом они пришли послушать не лауреата Букера Снегирева, шедшего как приправа, а Александра Цыпкина.
Я читал его избранные рассказы, и они не вызвали ничего, кроме недоумения. Ведь это были не рассказы, а анекдоты, причем в точности те же самые, что рассказывал нам на уроках в школе учитель труда. И непонятно, зачем Цыпкину понадобилось рядить их в тяжелую позолоту литературы.
Но за последние пару лет Цыпкин получил несколько премий, его рассказы экранизировали, со сцен их читали российские актеры первой величины – Хабенский, Козловский и Дапкунайте. Хороший артист и инструкцию к микроволновке способен прочесть, как монолог Шекспира, но факт оставался фактом – Цыпкин стал одним из популярнейших писателей наших дней. И теперь я наблюдал за замершим в трепетном ожидании залом и за шейхом Снегиревым, вышедшим на разогрев.
Снегирев читал рассказ с названием «Яйца», и я таращился на его лысую голову, иллюстрировавшую название. В свете софитов я снова заметил странную особенность его головы – в ней не отражались, а только гасли, как в черном зеркале, все блики и отражения.
Потом появился Цыпкин в пиджаке и кашемировой водолазке, похожий на предводителя крупной гусиной стаи. Он быстро разгорячился от чтения собственных баек и снял пиджак, успев поиграть грудными мышцами. Сколько упорно, столь и безуспешно он пытался втянуть живот, и я снова и снова думал о том, почему он выбрал себе истрепанную личину писателя. Ведь естественной его личиной и средой обитания был стык трех жанров: стриптиза, маркетинга и стендап-комедии.
Зал неистово хохотал, когда следовали панчлайны, и растекался в сладковатую теплую жижу, когда звучали куски, рассчитанные на умиление. В ту минуту феномен Цыпкина казался мне куда лучшим доказательством жестокой бессмысленности бытия, чем любой геноцид и стихийное бедствие. Цыпкин и дальше будет торжествовать. Я уже не удивлюсь, если моя любимая актриса Пенелопа Крус со сцены Альберт-холла будет читать его новеллы, почерпнутые из сборника «1000 и один анекдот про Петьку и Василия Ивановича». Не удивлюсь, если все тот же писатель Уэльбек признает, что после миниатюры Александра Цыпкина «Минетик» его романы «Возможность острова» и «Карта и территория» выглядят жалкими потугами на письмо, достойными разве что абитуриента Литературного института, но уже никак не его выпускника. Не удивлюсь, если братья Итан и Джоэл Коэны возьмутся за экранизацию его рассказа про мальчика, который просит у мамы разрешения пописать в море, и получат за него больше наград, чем за экранизацию романа о боге, дьяволе и судьбе «Старикам тут не место». Логики нет и морали нет, думал я, косясь на восковое желтое ухо соседки сбоку.
Я смотрел и смотрел на этого радостного гуся, поджариваемого светом софитов, из своего темного закута, тяжело больной, возможно, умирающий, красивый, талантливый, но никем не понятый, одолеваемый призраками и (подсказывал мне подлый голос) теперь еще обвешанный чужими детьми и женщиной, к которой я, пора бы уже признать, испытывал в лучшем случае осторожную симпатию. А полный зал лихорадило от любви.
После концерта я хотел приблизиться к Снегиреву, но это оказалось по-настоящему трудным делом. Он был погребен под женщинами на каблуках – одни облепляли его, другие снимали, потом происходила перестановка, и все повторялось опять. Стоило мне подойти, как дама, очень похожая на соседку из ЖК «Европа-сити», отчитывавшую меня за «чудовищный и позорный» коврик, сунула мне телефон для съемки.
Я заметил, что это был последний айфон. Она сунула сто тысяч рублей мне в руку. Самым правильным шагом был побег – просто удрать с телефоном в руках через аварийный выход. Единственный способ прервать череду унижений длиной в жизнь. Но я стоял и ждал неизвестно чего, и не убегал, и не фотографировал.
– Кстати, вот тоже хороший писатель, – сказал Снегирев, высвободив длинную свою руку, чтоб похлопать меня по плечу. Но женщины на меня не взглянули. Я сделал несколько снимков и вернул телефон.
– Лампочки ты не купил, – успел констатировать Снегирев перед тем, как его увлекли в гримерку.
27
Нева почти освободилась от льда, но не торопилась никуда течь, не принималась биться в своем гранитном вольере, как это бывало в ветреную погоду, и даже морщины ряби не искажали ее черты. Нева лежала пластом, безмолвная, черная.
На набережной стали преобладать следующие цвета: серый, а также коричневый. На мне были коричневые ботинки и темно-серая парка, так что когда я присел на ступеньки причала, показалось, что границы между мной и набережной до некоторой степени размыты.
Я продолжал развивать доставлявшие мне мазохистскую радость мысли о несправедливости этого мира. В частности, мира литературы, который, как и весь остальной органический мир, да и неорганический тоже, действует в соответствии с чьей-то злой и абсурдной волей.
Только теперь я, не сразу заметив это, помогал себе активной жестикуляцией и ключевые тезисы своего монолога произносил, или даже выкрикивал, вслух. По счастью, оценить это зрелище было почти некому. Набережная была безлюдной, и за полчаса по ней прошел только один человек – мужчина с идеальной щетиной, в распахнутом бордовом пальто.
Он остановился напротив и, не пытаясь сделать это украдкой, сфотографировал меня на телефон и записал несколько слов. При этих действиях с его лица не сходила отстраненная и торжествующая ухмылка. Только когда он оказался уже достаточно далеко, пришло осознание, что это был звезда современной литературы Цыпкин.
Я встал с корточек и неторопливо пошел за ним. Задул ветер с Невы, но мне было слишком жарко, и я даже расстегнул куртку, а потом стянул шапку и сунул ее в карман. Я сразу почувствовал, как ветер принялся жадно щупать ребра и теребить уши, но духота и не думала отступать.
Голова была на редкость пустой: ни чувств, ни мыслей – меня занимал один только жар, мне было очень жарко, я запекался заживо в собственном поту, и хотелось сбросить с себя парку, свитер и даже подштанники.
Из-за того, что ветер дул мне не в лицо, а в спину, я почувствовал запах скисшего грибного супа поздно: когда уже поравнялся с его источником и оставил этот источник чуть позади. Мой самый главный и единственный в мире фанат стоял у причала в том же плаще, в домашних штанах-шароварах, при неизменных своих усах.
– Самые приятные встречи – случайные, – заметил поклонник (мы уже выяснили, что, вероятней всего, он никаким поклонником не был, но к чему к концу книги придумывать привычным героям новые прозвища и имена), сделав даже попытку раскрыть для объятий руки, но я эту попытку пресек.
Пару секунд мы простояли в молчании, и я все-таки задал вопрос, попытавшись вложить в него столько неприязни и злобы, сколько подобный вопрос в принципе мог вместить.
– Как твой дебютный фильм? – спросил я.
– Хорошо, даже отлично, – проговорил поклонник, по-собачьи чуть наклонив голову.
– Только им не понравился первый вариант сценария.
– Который…
– Который основан на твоем рассказе. Мой мастер пришел прямо в бешенство от него. Ему показалось, что сюжет слишком вторичный и при этом, как он сказал, «пошлый и приторный». А в отношении твоего стиля он использовал слишком резкое, на мой вкус, определение.
– Я не очень хочу…
– «Лоботомированный Платонов». Это его слова. То есть линию про сына, мать и отчима он отверг, но линия про ангела и барыгу ему понравилась. Он предложил ее развить, поначалу я не хотел, но результат оказался отличный – ну, как мне кажется. В общем, съемки уже через пару дней. Могу указать тебя автором идеи, если хочешь, хотя…
Я посмотрел с тоской на Цыпкина, который уже почти пропал из виду. Если я не хотел его упустить, следовало пуститься в бег, и, в общем, меня ничто от этого не удерживало, кроме ужасающей физической формы. Мне бы, конечно, стоило допросить этого типа про страницу на «Википедии» и ту фотографию, но прямо сейчас на это недоставало сил. Поклонник взял меня беззащитным, растерянным, мне было тяжело даже просто стоять рядом с ним. От запаха прокисшего грибного супа опять мутило.
Внезапно поклонник взял меня за рукав. Не взял, а даже схватил, он повел себя грубо, и я стряхнул его руку и сделал шаг назад. Поклонник остался там, где стоял, смотря на меня с той же нежностью, очень бледный, зеленоватый, растрепанный. Цыпкин исчез за углом.
– Спешить пока некуда, – сказал поклонник.
Он сделал странное движение тазом и вытащил из рукава молоток. Выражение его лица не переменилось. А меня сковала та же беспомощность, что и в ту встречу у сфинксов с разбитыми физиономиями. Физиономиями, которыми они смотрелись друг в друга, как в зеркала. Впрочем, тот, что стоял слева, как будто косил чуть-чуть. Он глядел на башенные краны Адмиралтейских верфей, напоминавшие лапки перевернутых на спину насекомых. На Успенскую церковь, за которой стоят заводские трубы. И с того ракурса могло показаться, что ядовитый дым, съедающий небосвод, вырывается не из труб, а это концентрированная духовность клубится из куполов, медленно растворяясь над Западным скоростным диаметром.
Возникло соображение, что деревянный молоток у поклонника в руке очень изящный и, скорее всего, старинный. Где он его достал? Наверное, на Удельном рынке.
Поклонник вертел молоток, не делая попыток приблизиться. Темно-желтый свет фонаря играл на бойке. Молоток, ко всему прочему, был двухсторонний, как секира.
– Ты знаешь, куда идет этот парень в пальто? – Между прочим, это знаменитый писатель Цыпкин, его знают все. – Я тоже знаю. Это я так, фигурально выразился, – взмахнув рукой, поклонник начертил молотком очень изящную фигуру, наподобие силуэта балерины. – Короче, ты будешь в шоке, когда узнаешь, что…
Он сделал картинную паузу, изобразив на лице что-то очень похожее на мину персонажа картины «Крик» Эдварда Мунка. И цвет его лица, и мрачные цвета на горизонте вполне соответствовали цветовой гамме этой без преувеличения великой, заслуженно столь знаменитой картины.
– Точнее, не что, а куда. Куда направляется твой любимый писатель Цыпкин.
Меня не очень-то занимало, куда направлялся писатель Цыпкин. И я снова подумал о том, что если, помимо воли, все равно стою здесь, на ледяной набережной, разгоряченный и потный, в компании своего лжепоклонника, то скорее должен узнать у него о снимке могилы и статье в «Википедии», но никак не о том, какие планы на вечер, точнее, остаток вечера были у писателя Цыпкина.
Но мой поклонник уже начал рассказывать, что писатель Цыпкин буквально на днях подписал договор о покупке квартиры в доме 11а по улице Маяковского. А кто жил в этом доме? Выдержав короткую паузу, дав мне возможность сообразить, которой я даже не попытался воспользоваться, мой поклонник торжественно возвестил, что в этом доме прожил почти всю жизнь мой любимый писатель Даниил Хармс. А Цыпкин купил его квартиру.
Возникал справедливый вопрос: зачем? (Не у меня, но у поклонника.) Ведь писатель Цыпкин едва ли способен воспроизвести хотя бы одну строчку из стихотворения «Постоянство веселья и грязи», что говорить о менее известных стихотворениях Хармса. Скорее всего, пролистав когда-то в юности его «Случаи», и, наверное, даже не хармсовские, а написанные по его мотивам все эти Гоголи, споткнувшиеся о Толстого, он решил, что Хармс неплохой юморист, хотя до подлинных мастеров, вроде Яна Арлазорова или Виктора Коклюшкина, недотягивает. Так зачем он купил квартиру, одну из комнат в которой занимал Хармс?
Потому что мог, вот зачем. И уже успел развесить повсюду вульгарнейшие ковры, оплаченные фанатами его, цыпкинской, прозы. И вот он плюет в потолок, в который плевал Хармс, и смотрит на мир из окна, из которого Хармс наблюдал вываливающихся старух, голых старух и старух в сорочках, и дворника, и детей, умирающих от столбняка на асфальте.
Говоря все это, фанат скакал по ступенькам вниз и вверх, как водяной паучок, размахивая своим молотком, а я все хотел спросить, какое мне до этого дело.
Нельзя было сказать, что слова поклонника совсем не задели меня за живое. Все-таки Цыпкин вселился туда не по праву. Ему бы жить где-нибудь на морском берегу, облюбованном отечественными туристами. Там жизнь регулярно подбрасывала бы ему идеи новелл наподобие той, где мальчику не позволяют пописать в воду. Почему его так тянет опорочить священное, какой же все-таки редкий урод, но дальше-то что?
Я заметил, что на причале были разбросаны доски и сено, куски белой материи, свечные огарки, а в углу лежал ком брезента, похожий на парашют.
– И я предлагаю тебе вот что, – сказал поклонник, перестав на какое-то время дергаться. – Ты подождешь здесь пятнадцать минут, возьмешь молоток и зайдешь к нему в гости.
– Там же, наверное, коммуналка, – зачем-то сказал я.
– Ее давно расселили, – сказал поклонник. Запахнув пальто, он шагнул к воде и внимательно поглядел, как будто на глубине был начертан текст подсказки. – Лестница номер пять, третий этаж справа, ключ домофона В2010В. Позвонишь в дверь и скажешь ему: это я. Не удивляйся, через сорок минут у него назначена встреча. Вроде как для интервью, но тебе ли не знать, какие именно интервью назначаются на одиннадцать вечера. Сразу, как только Цыпкин откроет дверь, ударишь его вот сюда (он показал область между бровей, которая из-за того, что брови у него срослись в одну бровь, была условной), когда он упадет, ударишь его еще разок, куда-нибудь на уровне глаз, необязательно очень сильно, вот так, ну а дальше я все возьму в свои руки.
Присмотревшись к фанату внимательнее, я вспомнил слова Рябова о двойнике с другими глазами. В зрачках у поклонника шевельнулось и скрылось что-то кошмарное, и теперь они сделались черными, неподвижными, как глаза Марселя, но в остальном он был похож на меня, только выглядел чуть более творческим и нездоровым.
Наверное, если бы лет на шесть раньше я поддался зову и переехал в Санкт-Петербург, то скорее всего выглядел именно так – полностью поседевшим, с зеленоватым цветом лица и черными глубокими синяками от водки и недостатка света, и вдобавок плохой экологии, с педофильскими идиотическими усами, в советском плаще и шароварах, в общем, одетым по самой передовой петербургской моде.
Из груди вырвался тяжкий вздох. Час от часу не легче. В кризисные моменты жизни любой человек, в зависимости от крепости нервов и темперамента, впадает в тупое бездействие либо разводит бурную деятельность, но в любом случае пребывает в моменте, живет. А я стоял и раздумывал о литературе. Я думал, получится ли использовать случившееся в романе, сценарии, рассказе или хотя бы верлибре. Выводы были неутешительными. Сложно было представить более пошлый ход, чем появление в романе о Петербурге (а равно сценарии, рассказе или верлибре) собственного двойника. А то, что этот текст основан на реальных событиях, не могло служить оправданием или даже служило бы отягчающим фактором – жизнь подкидывает тебе сюжеты, но ты не в состоянии предать их хоть сколько-нибудь достойной обработке. Это ли не настоящее проклятье древних сфинксов – быть прирожденным писателем, неспособным ничего сочинить.
Как в тумане, я сделал шаг к своему двойнику/поклоннику. Он протянул молоток, предусмотрительно повернув его ручкой ко мне, а я со всей силы толкнул поклонника в грудь – так, что он отлетел метра на три и ринулся головой в воду.
Я и не думал, что в моем теле, которое ходуном ходит даже от легкого раздражения, мог подняться такой первобытный и всеохватный гнев. Гнев, который следовало бы описать гекзаметром. Если поклонник остался бы на ногах, то я вырвал бы молоток вместе с рукой, раскроил бы ему череп так, что мозги бы брызнули во все стороны, поломал бы каждую кость, от большой берцовой до стремечка. Захотелось броситься в воду и добивать его, бить его головой о гранитные плиты, пока бы вся голова не ушла в гранит. Или стереть ее об этот гранит, как об терку.
Испуганное лицо поклонника вынырнуло из воды, он принялся колотить по поверхности руками-веслами. Он не кричал, а только хрипел, да и этот хрип из-за поднятых им же волн был едва слышен. Я подошел к самому краю, как будто и правда задумав прыгнуть к нему, чтобы добить, и в этот момент услышал знакомый голос.
«Просто не дай ему уцепиться за борт. Лучше как следует дай по башке. Но только издалека, а то еще схватится. Вон там валяется молоток».
Я огляделся по сторонам, но не сдвинулся с места. Поклонник продолжал отчаянно лупить по воде, захлебываясь, но храня молчание. Гнев прошел так же мгновенно, как и возник. А вместе с ним ушел жар, как будто жар, давно нараставший во мне и достигший критической массы, мутировал в гнев и со вспышкой агрессии, с этим тычком в грудь вырвался вон из тела.
«Сейчас ты стоишь перед выбором: либо он, либо ты, – продолжал Петербург очень размеренно. – Удивляться нечему. В жизни такое случается сплошь и рядом. На первый взгляд, делить вам особо нечего. Тем более здесь, в Петербурге, в котором и так живет очень мало людей. Ты ведь уже заметил, как много пустых пространств на этих бесконечно длинных проспектах, сколько домов, в которых хорошо если горит окно или два. Но и за теми немногими освещенными окнами протекает очень условная жизнь. Большинство обитателей этих квартир не в состоянии приклеить на место кусок обоев, отклеившийся полвека назад, стряхнуть пыль и с самого себя, что говорить о других поверхностях.
Кто-то даже может подумать, что всех этих людей, которые стоят с сигаретой возле окна или сидят на подоконниках в романтических позах, которые заталкивают свои картины в переполненные вагоны метро в час пик, этих людей в цилиндрах и попрошаек, исполняющих песни Виктора Цоя, – распечатывают на 3D-принтере, чтобы создать какую-то видимость жизни в городе. Подобно тому, как в Пхеньяне по туристическому маршруту расставляют продуктовые магазины, наполненные едой, и довольных своею судьбой корейцев.
Кажется – чего легче, разойтись в этом заброшенном городе двум людям, которых на первый взгляд и не связывает ничего. Но нет, тут действует все та же простая животная логика – либо ты, либо тебя.
О последствиях даже задумываться не стоит. Последствия будут самые мягкие. Просто в ответ на вопрос, зачем ты его убил, скажешь, что убить тебя вынудил город Санкт-Петербург. И вообще, убил ты не человека, а то ли своего темного двойника, то ли ожившую карту Таро, а может, и самого черта, ведь, как известно, одно из альтернативных названий Петербурга – Чертоград. И, наверное, оно дано не случайно, и эти создания попадаются здесь не реже обычных людей, есть основания полагать, что их число эквивалентно. Можно принять и самое логичное объяснение – что это действительно твой поклонник, немножко придурковатый и эксцентричный, со сбитыми, как иногда говорят, моральными ориентирами. Просто он любит докапываться до сути вещей и из-за этого осведомлен о твоей жизни чуть больше других, а в общем и целом этот парень желает тебе только добра. Но ведь эту версию ты отвергнешь сам как нежизнеспособную».
Но пока я слушал эти напутствия в голове, необходимость в усилиях уже отпала – мой поклонник плавал в воде, как кувшинка, с желтым распухшим лицом, с кровоподтеком возле виска и нашлепкой усов, теперь напоминающих пиявку. Его глаза, ставшие вдруг из черных беломолочными, были устремлены к небу.
И что мне теперь делать, осторожно спросил я, но голос уже молчал, и было понятно, что он не планировал продолжать беседу.
Постояв немного возле причала, я сумел совладать со все возраставшим желанием просто взять и уйти, оставив эту кувшинку на попечение Невы. Но труп не желал уплывать, он болтался возле причала, как в проруби, привязанный невидимой цепью к плитам. Я стал замерзать, мороз так стремительно проникал под кожу, как будто от кожи остался один намек. Я снова был, как Валерин младенец, явившийся в мир раньше срока, но только без спасительной барокамеры, без надзора, отданный воле случая.
Мне было не справиться в одиночку, и я решил позвонить тому, кто выручал меня всегда и везде, моему проводнику, моему петербургскому ангелу-хранителю и покровителю, за исключением одного досадного эпизода, который следовало поскорее забыть. Я позвонил Максиму.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

